|
Николай Бердяев
ПИСЬМА НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА
Публикация В.Аллоя
Воспроизводится по публикации: Минувшее. Вып. 9. М.: Феникс, 1992. (Репринт парижского издания "Atheneum", 1990 г.). Страницы московского издания указаны в прямых скобках внутри текста.
БЕРДЯЕВ — ФИЛОСОФОВУ Париж, 15-18 марта 1908 г.
Пишу Вам, Дмитрий Владимирович, с болью в сердце, но твердо решил быть как можно откровеннее и искреннее. Вчерашний вечер оставил в моей душе неизгладимо тяжелое впечатление и почти решил вопрос о наших отношениях, не с Вами только лично, а с вашим коллективом. Последствия таких фактов, как вчерашние, не устраняются легко при помощи carte pneumatique, так как в подобных фактах затрагивается самое святое святых. Я в первый раз за всю свою жизнь встречаюсь с таким надругательством над тем, что для меня священно, никогда и ни в ком я не встречал такой грубости, такого неуважения к личности и такого безнадежного непонимания, какое встретил в Вас и Дм[итрии] Сергеевиче], своих единоверцах и единомышленниках. Я сделал огромное усилие воли, чтобы сдержать свой вспыльчивый темперамент и вынести все оскорбления без окончательного скандала. «Соборность» вчера вечером была, но не у нас с вами, была «соборная» травля против меня, против интимнейших сторон моей личности, которые я не оголял и никому не давал права оголять. Предоставляю судить Вашей совести, кто из нас был более целомудрен. Мне всегда казалось, что минимум уважения к личности и ее интимным переживаниям обязателен и в среде «единоверцев». Грешу этим родом морального консерватизма. Ваше поведение было грубым хулиганством, поведение же Д.С. было не менее грубым юродством. Вы сказали мне самые ужасные слова, какие только можно сказать человеку, Вы крикнули, что я предаю Христа, крикнули злобно и нехорошо. Личные оскорбления я не только могу, но и должен прощать, и я верю, что во мне не. останется дурного личного чувства по отношению к Вам. Но я не знаю, простится ли тот соблазн для малых сих, который был создан Вами и Д.С. в спорах против меня. Думаю, что у всех осталось впечатление отвратительное, у многих зародилось подозрение в подлинности нашей веры, и ни для кого ничто не прояснилось. Вы начали публично сводить со мною счеты, счеты ни для кого непонятные и неинтересные, вынесли на улицу то, что очень интимно, должно совершаться внутри и стыдливо охраняться. Не думаю, чтобы этим Вы и Дм. Серг. проявили большую любовь к тем окружавшим нас людям, в недостатке любви к которым Вы упрекнули меня. Вы стали на дороге между мною и всеми этими людьми и помешали нашему общению, не дали мне возможности подойти к ним. Если бы вас не было или вы иначе себя держали, я бы мог хоть что-нибудь да дать, хоть что-нибудь да разъяснить. Я пробовал подходить к человеческим душам, пробовал заронить семя, пролить свет и не встречал непроходимой пропасти. Вы все делаете, чтобы эту пропасть создать, делаете и в жизни, и в литературе. Это плохое начало соборности. Вы не помогаете мне соединиться с людьми, а активно мешаете этому соединению. Вы незаметно прославляете меня и реакционером, и неверующим, всячески отнимаете у меня право и писать и говорить. Я отказываюсь тут видеть любовь ко мне и любовь к нашему общему делу. Если вы хотите педагогически воздействовать на меня, поправить заблудшую овцу, то избираете плохой метод и достигаете прямо противоположного. Но я хочу вам всем задать один основной вопрос, с которым и связаны все наши отношения и все между нами недо-разумения. Кто вам дал право говорить так, как вы говорите, обличать, поучать, отлучать и т.п.? Что вам дает право признавать за собою те религиозные преимущества, в силу которых вы все можете, а я ничего не могу, вы действенны, а я бездействен? Почему Дм. Серг. имеет право упоминать имя Христа через каждые два слова, а я совсем не могу упоминать? Поймите, и поймите это окончательно, что каждый из вас для меня такой же отдельный человек, как Грузинская', Карташев, Булгаков, Эрн2, Свенцицкий3, Трубецкой4 и др., и всех вас я расцениваю по личному влечению, по сходству идей, по близости наших человечьих стремлений к божескому. Я знаю З.Н., Д.С., Д.В., знаю наши общие религиозные стремления и чаяния, но не знаю вашего коллектива, не вижу вашей соборной личности. Вы много мне дали и даете, но коллектив ваш для меня не является авторитетом. Я не верю, чтобы приобрел право исповедовать Христа, право на гнозис, право писать и говорить, лишь войдя в ваш коллектив. Я не принадлежу к «ереси Мережковских» и не знаю даже настоящим образом, в чем эта «ересь» заключается, хотя очень ценю Мережковского, признаю за ним большие заслуги в постановке религиозных тем и многим ему обязан в религиозном развитии. Моему религиозному чувству и моему религиозному сознанию чужда и непонятна ваша идея церковности и ваш путь к ней представляется мне ошибочным, сектантским, слишком человеческим. Человеческий произвол в вопросе о Церкви для меня хуже одиночества, всякий намек на возможность человеческого властолюбия и человеческого самоутверждения в религии вызывает во мне живой протест. Я не могу подчиниться вашему коллективу и нашему коллективу, потому что это коллектив слишком человеческий и не утоляющий моей жажды видимой церкви. В глубине своего существа я чувствую себя принадлежащим к подлинной Церкви Христовой, я молюсь со всеми святыми христианскими и со всеми подлинно верующими во Христа, в первооснове своей я отрекаюсь от своего я во имя Христа и в одной какой-то точке я не только христианин, но и православный. Иногда мне кажется, что вы стремитесь к новой религии, я же стремлюсь к осуществлению старой христианской религии, к полноте Православия, вместившего все пророческие чаяния. Вот уже целый год меня мучит вопрос о том, не лежит ли верный путь к Вселенской Церкви через святость православия. В решении этого основного вопроса моей жизни я ждал вашей помощи, мне необходимо было проверить себя через вас, присмотреться к вашему решению. Парижское общение с вами было для меня хотя и очень важным и поучительным, но почти сплошь мучительным и тяжелым. Я сразу почувствовал, что мы идем разными путями и что в наши отношения вкрадываются недоразумения, взаимное непонимание и почти фальшь. Что может появиться и злоба — это я с ужасом заметил только вчера вечером. Я мало чувствую в вас Христа, вы мало чувствуете Христа во мне, — в этом корень всех наших препирательств, подозрений, отчуждения и т.п. Быть может мы разно чувствуем Христа, быть может ощущение Христа всегда индивидуально и в своей индивидуальности не противоречит церковности. Ваша идея церковности представляется мне более деспотической, чем католическая, личность в ней может задохнуться, все должны по этой идее подчиняться единообразной волюнтаристской норме. А мне неприятен, почти противен утилитарный волюнтаризм в религии. Вам нужны практические деятели новой церковности, волевые натуры, действенные революционеры. Я не подходящий человек с вашей утилитарно-религиозной точки зрения. Что делать, у меня натура созерцательная, я мыслитель по призванию и складу, могу принадлежать к божественной Церкви, но не могу создавать церкви своими человеческими усилиями. Быть может есть во мне несколько капель крови восточного монаха. Вы мне этого не простите, но быть может простит меня Бог, создавший мою индивидуальность. А необходимо религиозное уважение к индивидуальности, которого я не вижу в вашей идее церковности. Дм. Серг. мыслит всегда большими антитезами, для него нет индивидуальности, а есть лишь язычество или христианство, старая или новая церковь, Христос или Антихрист и т.д. Эта склонность к антитезам оказала вредное влияние на ваш путь церковности и в ней же коренится неуважение к живой личности. Это неуважение я всегда в вас видел, всегда им возмущался, но только теперь ощутил его на себе. Вы относитесь к личности так же, как относятся марксисты и старые революционеры, всегда в категории нужности и полезности для «дела». Характерна была Ваша фраза, что вам нечего делать с Грузинской. Она ведь ваша сестра во Христе и ценность ее лица не меньшая, чем интересующегося религией социалиста-революционера. Ваш утилитаризм и волюнтаризм противен всему моему существу, самому дорогому для меня, против этого протестуют заветные мои мечты, заветные мысли. Десять лет я веду борьбу со всеми формами утилитаризма и встречаю его в месте близком от той святыни, к которой наконец пришел. Но и старая Церковь была уже загублена человеческим утилитаризмом. Революционная общественность вся отравлена ядом утилитаризма и гибнет. Вы же только и делаете, что занимаетесьутилизацией и потому ни к одной человеческой душе не можете отнестись, как к безусловной ценности. Ваша воля так направлена на утилизацию человеческих сил, что вы перестали видеть звездное небо, теряете чувство вечности и космическое чувство природы. Мне очень чужд этот путь. Я не пантеист, но в лесу я больше чувствую Бога, чем в том безобразном человеческом лесу, в котором мы заблудились вчера. Общение с вами не усиляет моего общения с Богом, скорее ослабляет, в этом весь ужас. Ваша соборность не соединяет меня ни с Богом, ни с человечеством, и потому я не в силах ее почувствовать. Наше парижское общение привело к совсем неожиданному результату. Я глубже и сильнее, чем когда бы то ни было, почувствовал свою связь с Православной Церковью и внутреннюю неизбежность идти к новой, полной, Вселенской Церкви через приобщение к святости Православия. Все это нелегко дается, но в глубине моего существа зреет важное решение. Я не верю, не верю в возможность выдавить из себя новую церковность человеческими волевыми усилиями, и общение с вами окончательно утверждает меня в моем неверии. Богочеловечество явится иными путями. Вы скажете, что я колеблюсь между «вами» и Православной Церковью, но такое определение моего состояния будет с вашей стороны непозволительным самомнением и самоутверждением. Вы — люди и потому не можете быть сопоставляемы с Церковью. Для меня не существует выбора, т.к. с одной стороны Церковь, а с другой просто милые, а временами немилые люди. Церкви я могу подчиниться и хочу, людям — не могу и не хочу. Ваш путь церковности конкретно заключается в том, что каждый должен отдавать свое произведение на вашу человеческую цензуру и тогда выпускать его со спокойной совестью. В этом есть что-то кошмарное, вроде новой святой инквизиции. Церковь грезится мне как радость, а не как давящий кошмар. Когда я писал свою работу «о происхождении зла и смысле истории», я чувствовал себя внутренне принадлежащим к Церкви Христовой и от Нее получившим откровение. Я писал философскую аналогию христианства — истины религиозно мне данной, религиозно мной пережитой. Я сам очень ярко пережил богоборчество и всем существом своим постиг его тщету и пустоту. Я имею внутреннее право говорить о зле с религиозной точки зрения, и Дм. Серг, не имеет никакого права говорить о том, что я не выстрадал этой проблемы. Он плохо знает мою жизнь, не видел моих мук, которые я не люблю выставлять напоказ, и потому так грубо и неделикатно говорит, что я зла не пережил. Во мне нет ни городского, ни хулиганского обнажения души, поэтому не так легко увидеть, что я был на краю гибели от сил зла. Но писать «о происхождении зла» дает мне право не только выстраданная мною вера, право это дает мне соборный разум и соборная совесть человечества. Вы отнеслись с поразительным непониманием и поразительным незнанием ко всему тому, что я говорил о сверхличном разуме. В мире есть естественное откровение сверхличного разума и сверхличной совести. Вы это отрицаете, потому что вы бывшие декаденты и декадентство до сих пор еще не вполне преодолели. Декадентство и было отвержением сверхличных норм разума и совести. Я бывший идеалист и впитал в свою плоть и кровь эти сверхличные нормы. Сверхличный разум раскрывается не только в Церкви, но и в мире, в мире было откровение божественного Разума, в истории человеческого самосознания, в истории философии. Для меня история «хорошей» философии и есть планомерное раскрытие сверхличного Разума, естественное откровение Божества, внутренне тождественное с сверхъестественным откровением, данным в религии. От Платона и Филона, от Оригена и Скотта Эригена5 до Гегеля, Шеллинга и русских философов тянется одна нить, раскрывается истина не малого эвклидового разума, а большого сверхличного Разума. Раскрывающийся в мире, в истории философии сверхличный разум окажется церковным в последнем пределе мировой истории. Я лучше вас знаю «критику познания», пережил «критицизм» и вижу все его слабые места, все его провалы. Вы интересуетесь Бергсонами, Джемсами и т.п., но упорно не хотите поговорить со мною о философии, присмотреться к моему философскому оправданию веры, к моей критике «критики познания». Это невнимание представляется мне почти обидным. Я многое мог бы сказать, если бы меня слушали с желанием понять. В скандальный вечер для меня выяснилось, что вы ничего не понимаете в философии, понимаете не больше, чем товарищ Дмитрий. Метафизически — богословские споры с вами для меня почти неинтересны, т.к. по совести я не могу считать вас компетентными в этом деле судьями. Вам нужно долго разъяснять, что я хочу сказать, но для этого должно быть желание вопрошать без злобы и слушать со вниманием. В том, что я говорю, нет никакого самомнения, это прежде всего констатирование различия наших специальностей, нашей подготовки, нашего умственного склада. Дм. Серг. может быть в тысячу раз талантливее меня, сильнее меня в религиозной эстетике, но он в тысячу раз меньше меня знает и понимает в философии и даже в богословии. Нужно признавать различие индивидуальностей и учиться друг у друга. Поймите, что религиозно-философское посвящение для меня один из путей к Вселенской Церкви, оно рассеивает мрак и готовит сознание к принятию веры. Тут мы очевидно идейно расходимся. Вы сходитесь с А.Белым, т.к. вас связывает общее декадентское прошлое, общая специальность (искусство, художества), общая мистико-анархическая складка души. Я человек иного прошлого, иной специальности, иной породы. Со мной вам невыгодно соединяться. Я всегда буду вас тянуть «вправо», как в религиозном, так и в общественном отношении, да и в моральном, т.к. я противник всякого хулиганства и юродствующего самообнажения. В мире, вне видимой церкви, я знаю сверхличные нормы разума и совести и осуждаю хаотическое безделие и бессовестность. Я не могу согласиться с Чул-ковским критерием, что нужно принять самое крайнее, самое предельное в общественности. Ваша склонность к революционному максимализму представляется мне пережитком декадентства. В общественности нужно принять и оправдать не самое крайнее и предельное, а самое разумное (не в религиозном смысле) и доброе. Я не согласен с тем, что чем хуже, тем лучше, что пусть наступит хаос, чтобы в нем родилось что-то новое. Это оргиазм, в который я не верю и которого не люблю. Необходимо излечить русскую интеллигенцию от кровавого бреда, а не подогревать его религиозно. Вы же пользуетесь апокалиптическими пророчествами для подогревания кровавого бреда. Вам все мерещатся ужасы, катастрофы, фейерверки, жертвы, потоки крови и т.п. От этой чертовщины нужно религиозно отрезвиться и отрезвить других. Скажу Вам прямо: я презираю духовную буржуазность кадетов, но уважаю в некоторых из них моральное чувство ответственности за родину, и тактика кадетизма представляется мне меньшим злом, чем тактика максимализма. Нейтральный гуманизм оправдывается мирской сверхличной совестью и сверхличным разумом, а внерелигиозный максимализм есть безумие и безнравственность. Нормы для оценок существуют и вне той Вселенской Церкви, которая еще не выявилась ни для кого из нас, и я не знаю, почему вы отказываетесь применять эти нормы к жизни. Заявление Дм. Серг. и Ваше, что мы ничего не знаем и знать не смеем, звучит для меня или фальшью или мистико-анархическим построением. Мы многого еще не знаем, лишь предчувствуем и ждем, но многое знаем, стоим на твердой, а не зыбкой почве, и только потому и двигаемся вперед. Если Дм. Серг. ничего не знает о зле, то я не понимаю, чем он отличается от любого мистического анархиста или товарища Дмитрия. Я многое знаю и получил свое знание от своих религиозных и философских предков, которых чту и наследие которых охраняю. Я продолжаю дело старой, великой религии и старой, великой философии, и сказать, что я ничего не знаю об основных вопросах бытия, было бы для меня равносильно предательству и неуважению к завещанной мне истине и святыне. Абсолютные основы для меня даны в начале, а не в конце, эти основы делают возможным процесс развития. Сказать, что гнозис возможен лишь в той Вселенской Церкви, которая станет видимой в конце мира, значит отрицать историю, отрицать возможность всякого движения. Это граничит с мистическим мракобесием. Я не могу и не хочу бросаться в бездну хаоса и тьмы с надеждой, что в ней блеснет свет, я хочу идти туда уже со светом. Принять Христа значит утверждать очень многое, это уже гнозис, уже решение проблемы зла. Я органический догматик, догматик по складу ума и складу натуры, самые страшные сомнения в моей жизни всегда принимали у меня догматическую окраску, форму утверждения, а не простых отрицаний. Мне совершенно чужда скептическая складка, трудно найти человека, который бы так мало сомневался, как я, фанатическая, абсолютная вера соединяется во мне с созерцательной, мало активной природой. Я сомневаюсь в себе, в своей воле и чувствах, но никогда не сомневаюсь в абсолютной истине. Я пережил мучительное раздвоение воли и чувств, но никогда уже не сомневаюсь в том, что моему сознанию дана истина. Без догмата я не могу жить, не могу двигаться, не могу дышать, и я все переживаю догматически, с фанатическим утверждением истины. В этом я быть может очень не современный человек, не модернист, человек старого устройства, но ничего уж тут не поделаешь. Вы люди очень современные, или принимайте меня таким, каков я есть, или отвергайте. Боюсь, что вы не принимаете не грехов моих, не слабостей моих, которых и не нужно принимать, а самой моей метафизической природы. С другой стороны, мне многое трудно принять в вашей природе, в ваших индивидуальностях, ко многому я отношусь с нетерпимостью, не личной, а догматической. Когда по приезде в Париж я увидел ваше соединение с революцией и многое другое, я потерял ясное чувство того, к какой религии вы идете, и моя догматическая кровь бросилась мне в голову. Вы стоите на ложном пути и я чувствую себя бессильным помочь вам. Вы же мне помогаете, но совсем в обратном смысле. Я чувствую, что соц[иалисты]-револ[юционеры] не верят в Христа, но интернационализм вам сейчас ближе, чем я, это факт, который не следует скрывать. Вам он и ему подобное нужнее. Не знаю, как вам, но мне очень тяжело становится, и чувствую потребность разрешения. Отвратительный вечер, послуживший поводом к этому письму, многое разрешил, что-то надломилось в наших отношениях и боюсь, что бесповоротно. И не потому, что я так уж сильно обиделся на вас, я не склонен к личным историям и мещанским ссорам. Страшно то, что я почувствовал пропасть между нами, ощутил вас чужими и далекими. То, что произошло в этот вечер, не имеет никакого отношения к З.Н. К ней лично я отношусь так же любовно, как относился всегда, но порвалась какая-то связка с вашим коллективом. Считаю своим долгом сказать это вам как можно искреннее и откровеннее. Простите, что утруждаю вас целым сочинением, но нужно было сказать как можно более, высказать все, что накопилось, и в письме это удобнее сделать, чем в личной беседе. Письмо адресую Вам, Дм. В.6, но покажите его Д.С. и З.Н. Устраивать новое собеседование мне не хочется, уверен, что наши с вами недоразумения станут между мной и другими и помешают мне говорить. Да и уверен, что в Вас опять же вселится бес. Всенародное же покаяние после всенародного скандала всегда производит впечатление чего-то неестественного и безвкусного. Все равно никто не поверит, что единоверцев соединяет братская любовь. В воскресенье вечером очень хотел бы у вас быть, но вероятно не буду, так как мне неприятно будет сейчас видеть вас на чужих людях. Простите, если в конце наших споров я тоже был резок и раздражался, если в письме этом сказал что-нибудь несправедливое и дурное.
Ник. Бердяев.
|




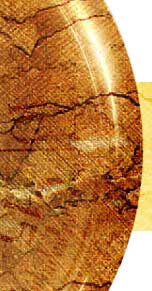
 https://vk.com/club155176255
https://vk.com/club155176255 
