|
ПИСЬМА НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА Публикация В.Аллоя
Воспроизводится по публикации: Минувшее. Вып. 9. М.: Феникс, 1992. (Репринт парижского издания "Atheneum", 1990 г.). Страницы московского издания указаны в прямых скобках внутри текста.
БЕРДЯЕВ — ФИЛОСОФОВУ Киев, 26 июля [1906]
Мой дорогой Дмитрий Владимирович! Отчего Вы меня совсем забыли? Так давно не было от Вас никаких вестей. Я часто в последнее время вспоминаю Вас, не только вас всех вместе, но и Вас лично. Очень грущу, что нет между нами живой связи, даже письмами обмениваемся редко. Пишу из Киева, куда меня вызвала из деревни тяжелая болезнь отца. Отец мой был при смерти, но теперь ему значительно лучше, и я надеюсь скоро вернуться обратно в деревню. Но семья моя переживает крах, все рушится и расползается. Денежные дела настолько плохи, а возможность литературного заработка настолько проблематична, что я не знаю, как буду жить и где буду жить зимой. В деревне останусь до конца сентября. Там хорошо, но во мне вызывает романтическую грусть вторжение в наш сад новой демократии, играющей на проклятой гармонике. Необходимо и справедливо изменение русской жизни, старый быт рушится окончательно, но мне чужд и ненавистен новый быт и новые массовые люди, такие неблагородные и грубые. Очень тяжело сознавать, что не принимаешь непосредственного творческого участия в том, что совершается в русской жизни, а совершается что-то огромное и страшное. И я начинаю думать, что наше положение сейчас безнадежно, безнадежно в смысле ближайших практических результатов. Весь опыт религиозной политики до сих пор оказывается мертворожденным. Очевидно с другого конца надо начинать. Пути нашего воздействия на жизнь не могут быть еще заметны глазу не вооруженному. Нужно гораздо большее воздействие на сознание, чем то, что до сих пор делалось нашим направлением во всех его оттенках. Одно дело спасать себя и образовать в себе и вокруг себя приобретенную атмосферу, а другое дело религиозно-культурное и религиозно-общественное творчество в мире. Первое дело почти преодолевает время, второе же дело слишком зависит от времени и сроков. В себе я ощущаю огромную внутреннюю перемену, огромную устойчивость религиозных переживаний. Многое и самое важное я окончательно кажется знаю и испытываю. Пишу очень много и настолько систематично, что скоро приближусь к идеалу, т.е. к Дмитрию Сергеевичу. Написал уже три главы своей книги': первая глава — «мистика и религия» (общее введение), вторая глава — «великий инквизитор» и третья глава — «государство». Теперь пишу четвертую главу — «социал-демократия». Считаете ли Вы подходящей для сборника3 главу «мистика и религия»? Или лучше что-нибудь другое? Вообще не. знаю, в каком положении идея сборника. Напишите мне об этом. Я потерял надежду на свой журнал. У Пирожкова нет денег, и он поступил некрасиво с «Полярной звездой»3. Да и времена такие, что никто не берет читать нашего журнала. Нет для нас места. Я послал свою последнюю статью «О народной воле» в «Московский еженедельник» Трубецкого4. Скоро выйдет мой сборник с несколькими новыми статьями5. Теперь такие времена, что нужно писать книги и издавать сборники. Могу сказать, что за последнее время я очень много сделал и многого достиг для лично своего настроения и для выражения своего миросозерцания в писаниях, но для общественности не делаю ничего. Тут один человек бессилен и это меня удручает. Нужно соединяться, но пути соединения слишком еще неясны. Что Вы думаете о происходящем в России? Что все вы предполагаете делать? Очень, очень недостает мне вас, милые. Попасть осенью за границу у меня нет никакой надежды и не знаю, когда увижу вас. Не представляю себе, что будет зимой. Получили ли Вы что-нибудь от пребывания в Париже, обогатились ли, не раскаиваетесь ли, что уехали? Все, что вас касается, меня глубоко интересует, имеет значение и для меня. Что пишете Вы, З.Н. и Д.С.? Я ведь ничего о вас не знаю, не знаю даже, в Париже ли Вы сейчас. В деревне я живу в атмосфере для меня отрадной и менее чувствую свое одиночество, но в Петербурге опять его почувствую. Напишите о своих планах. Напоминаю свой адрес: Ха-рьковско-Николаевская ж.д., ст. Люботин, имение Трушевой. Нежно целую Вас, а также З.Н. и Д.С. Думаю о вас и люблю вас. Ваш Ник. Бердяев
БЕРДЯЕВ — ФИЛОСОФОВУ Петербург. Воскресенье. 22 апреля 1907 г.
Дорогой Дмитрий Владимирович! Письмо Ваше меня так взволновало, так больно мне было читать некоторые его строки, что сейчас же Вам отвечаю. Прежде всего простите мне, что я так скверно написал Вам предшествующее письмо: писал его действительно под «настроением», многое говорил из духа противоречия, был раздражен, впал по обыкновению в крайности. Я убежден, что в письмах ничего нельзя сказать, интимное не передается, и если бы не дошел до самой крайней нищеты, то кажется сейчас бы сел в поезд и поехал к вам в Париж хоть на несколько дней. Одно место Вашего письма меня так болезненно поразило, такой обидный вопрос Вы поставили, что я почти не хотел верить своим глазам. Вы до сих пор еще не знаете, верю ли я в Христа, отвечу ли я «во истину воскрес»? Пространство все убивает, ужасно жить далеко друг от друга. Ваше сомнение звучит для меня так, как если бы Вы сказали, что я подлец, мошенник, обманщик, шарлатан. В одном отношении я никогда в себе не сомневался — всегда верил в свою искренность, всегда считал себя искренним писателем, даже слишком искренним, субъективным лиричным философом. Вы говорите, что любите меня, но не имеете в меня даже такой элементарной веры, чтобы не допускать с моей стороны возможности лжи в литературе, неискренности и обмана. В течение этого лета и осени я написал книгу, из которой Вы прочли вырванные куски2, и вся она только и говорит о том, что я верю в Христа и Его Воскресение. Хороша ли эта книга или плоха, не мне судить, но одно знаю — в ней вылились мои переживания, в ней написано о моем внутреннем опыте, она для меня не литература, а сама жизнь, как и все, что я пишу. Литературщина, академизм всегда мне были чужды, я всегда жил в своих философских исканиях и литературных опытах. Конечно, пишу я и мыслю отвлеченно, диалектично, верю в Разум и смотрю на мир философски, но быть может это и дает мне возможность оставаться целомудренным. В Вашем смысле я даже слишком целомудренный человек, скрытный, не экспансивный, ни в жизни, ни в литературе не говорю на каждом слове о своей вере в Христа и о своем ожидании Антихриста. Сомневаясь в моей вере, Вы меня видите таким, каким я был два года тому назад, когда раздвоение мое доходило до чего-то страшного. С тех пор многое изменилось, многое во мне произошло, многое я испытал, пережил. В прошлую весну и лето во мне совершилось нечто поистине религиозное, радикальный перелом, и лучше всего я могу это выразить так: я поверил окончательно и абсолютно в Христа, внутренне освободился от демонизма, полюбил Бога, ко мне вернулся тот внутренний религиозный пафос, который был у меня некогда, а потом затерялся. Переворот произошел не в моих «идеях», а в «жизни», в опыте, в клетках моего существа, связан с фактами, выстрадан мною. С того времени я сделался благочестивым человеком, я каждый день молюсь Богу, крещусь и соединяю себя внутренне с Христом во всех важных случаях жизни и во имя Его пытаюсь делать все значительное, что способен, и прежде всего писать. Я твердо решил стать философским слугой религиозного движения, использовать свои философские способности и знания для защиты дела Божьего, бороться силой своего разума с антирелигиозной ложью и в светской культуре расчищать почву для торжества религиозной истины. Моя философия имеет твердую религиозную базу, но я не решаюсь выступать в качестве религиозного проповедника, я не чувствую в себе особенного религиозного дара, не претендую быть пророком и апостолом, остаюсь философом и публицистом религиозного брожения, но религиозным в существе своем. Более всего я способен быть философом-богоискателем, апологетом нового религиозного сознания и глубоко уверен, что в истории мира предстоит еще сложный гностический процесс, что должно образоваться новое и окончательное учение, полное вероучение. Служа хотя бы косвенно этому великому гностическому процессу образования вероучения, без которого не может быть дальнейшего религиозного движения человечества, я остаюсь целомудренным, пишу лишь о том, во что подлинно верю, что пережил, исповедую свою веру не в форме притязательной проповеди и пророчества, а в форме философской защиты истины. Деление людей на активных, волевых и созерцательных мыслителей остается верным, какова бы ни была наша религия. Мое религиозное познание очень еще слабое, моя религиозная жизнь бедна и элементарна, я жажду обогатиться, но к «отцам» новой церкви не буду причислен, останусь вероятно заурядным безвольным прихожанином. О моей интимной религиозной жизни знает только Лидия Юдифовна3, человек религиозно гораздо более глубокий, чем я, сыгравший огромную роль не только в моей жизни вообще, но и в моем религиозном переломе. Свои отношения с ней я считаю подлинно религиозными, ощущаю в них Бога. Мое общение с Вами мне очень много дало, обогатило мою религиозную мысль, поставило в моем сознании ряд проблем, но до сих [пор] почти не давало мне религиозныхощущений, не говорило моему сердцу о близости Бога. Я любил говорить с Зинаидой Николаевной, много выносил из наших бесед, но ощущал скорее «демоническое», чем божеское, что очень соответствовало моей тогдашней раздвоенности. Дмитрия Сергеевича я высоко ценю, что достаточно доказал своей статьей о нем4, но разговоры его и письма всегда мне казались слишком «литературными». Что касается Вас, милый Дмитрий Владимирович, то в Вас я всегда видел сильное моральное чувство и рыцарское благородство, соединенное с хорошим умом, но своего бого-ощушения, своей религиозной мистики Вы мне никогда не дали почувствовать. Меня тоже не удовлетворяет «идейное» общение, оно привело к тому ужасному результату, что Вы даже не знаете, верю ли я в Христа. Но я не знаю, что значит принять Вас целиком, с мясом и костями. Кто вы? Что вы предлагаете мне принять целиком? Я хочу соединиться с вами, но не знаю, какое реальное содержание вы вкладываете в это соединение. Если вы совершаете таинства в церкви моего Бога и моего Христа, то я хочу принять участие в этих таинствах, хочу сделаться достойным их, я имею право на религиозную пищу, так как голоден. Вот и Лидия Юдифовна этого также жаждет, как я ждет, надеется. В старой Церкви мы не можем получить хлеба жизни, и когда я Вам писал, что иногда готов пойти хоть в православную Церковь за пищей, то хотел этим только выразить свой голод и свое недоверие к искусственным, механическим, вымученным опытам. Что вы уже дошли до таинств, до тех таинств, которые сама жизнь, и до религиозной соборности, об этом я ничего не знаю и не ощущаю. Вы меня не поняли, когда заподозрили, что я Вам задаю вопросы нерелигиозных людей, которые думают, что о таинствах можно рассказать, что можно раскрыть последнюю религиозную тайну так, как раскрывается политическая программа. В таком диком непонимании меня нельзя заподозрить. Я требую от Вас не ознакомления с программой действий, которую я потом приму или отвергну, я требую, чтобы вы мне мистически и религиозно дали почувствовать, что у вас совершаются религиозные действия. Я не только не испытываю ваших религиозных действий, но и не знаю о существовании подобных действий, как напр., знаю об элевзинских мистериях и о богодействе в старой Церкви Христовой. Вы остаетесь для меня такими же искателями, такими же жаждущими, как и я сам, такими же беспомощными. Я не ощущаю вашего тройственного союза, как религиозного действия, не чувствую еще в нем таинства. Сделайте так, чтоб я это ощутил и почувствовал, я буду счастлив и соединюсь с вами. В этом и только , в этом весь вопрос наших отношений. Все вы постоянно мне пишете, что я религиозно ничего не делаю, что у меня только идеи, что мои писания только литература. Я сам знаю свою религиозную бедность, но не вижу вашего религиозного богатства, не понимаю, почему напр. «Толстой и Достоевский» и «Грядущий Хам» Мережковского менее «литература», чем то, что я пишу, почему стихи З.Н. в «Весах» или Ваши в «Товарище»5 обнаруживают больше религиозного опыта и в большей степени ведут к действию. Я просто думаю, что в «идеях» у нас не такое уже абсолютное сходство (Вы это увидите, когда прочтете мою книгу целиком и внимательно), а в «жизни» не такое уже абсолютное различие (у меня тоже есть интимный религиозный опыт, есть своя жизнь, очень тесно связанная с моими религиозными идеями). «Биографическое» между нами различие играет не малую роль в наших разногласиях. Вы очень хорошо пишете о том, как Вы пережили литературу, искусство и «декадентство», как это было для Вас жизнью, как все свои силы Вы этому отдали. Я это знаю и думаю, что биографическая ваша связь с «декадентской литературой» имела роковое значение для вас, как деятелей религиозного движения. С одной стороны, вы (я говорю не только о Вас) не можете освободиться окончательно от остатков «декадентства», с другой, вы преувеличиваете значение всякого вздора в «литературе», отчаянно загипнотизированы «литературщиной». Я просто не в состоянии дослушать или дочитать до конца «33 урода» или «Крылья»6 и не мог бы ни одного слова сказать по этому поводу, просто небытие и конец, а вот Андрей Белый оторваться не может от пустяков, упивается «литературщиной». Социал-демократизм Белого вызывает во мне брезгливость, которую почувствует всякий переживший социализм. А.Белый (кстати сказать, он безнадежный и уродливый хулиган в литературе) всегда останется «декадентом» и ни одному слову его нельзя придавать значения, хотя вы, кажется, считаете его религиозно более действенным, чем меня, потому что по бесхарактерности и легкомыслию он на все согласен. Я же не «декадент» по своему прошлому, особенно целомудрен в сфере действий, особенно религиозных, не выношу всех подмен, выдуманности, игры, страдаю избытком добросовестности. «Литературы» я не пережил подобно вам и у меня даже есть органическая антипатия к «литературщине» и литературным нравам, к мелочным литературным интересам, к борьбе самолюбии, к злобам дня и пр. В литературном milieu я себя чувствую чужим и одиноким, не сливаюсь с этой суетой, испытываю физическую брезгливость к хамству литераторов. Корыстолюбие, самолюбивость и мелочность литературного мира действует на меня болезненно, я хотел бы бежать, но нет такой среды, которая была бы мне мила. По нраву, по инстинктам, по складу натуры я в гораздо большей степени русский помещик «средне-веского» толстовского круга, чем «литератор». Я русский барин, с детских лет задумавшийся над вопросом о смысле жизни и искавший Бога. Вот почему отрицание социального зла для меня было связано в юности не с революционизмом разночинцев, а с Толстым, толстовство в широком смысле мне родина, я и сейчас не могу развернуть «Войны и мира» без физиологического волнения и сладкого воспоминания о родине. Я не «литератор» и не «интеллигент», но глубоко пережил и перестрадал политику, социализм, революционную идею, чего Вы не пережили. Я прошел через социалистическую веру, отказался во имя ее от того, что любил более всего, — от философии и научной деятельности, заставил себя жить вместе с инстинктивно противной мне радикальной интеллигенцией, сидел в тюрьме, отправлялся в ссылку на север. Разрыв с социал-демократией мне дорого стоил, это была жизненная драма, о которой много мог бы рассказать. И я думаю, что имею гораздо больше права, чем все вы, говорить о политике, о социализме, о революции, я больше знаю, больше пережил, больше перестрадал. И если не мне говорить о Вашем равнодушии к литературе, то не Вам говорить мне о моем равнодушии к революции. К революции у меня было даже более жизненное, практическое отношение, чем у Булгакова, но с Булгаковым сегодня мы почти одинаково воспринимаем «революцию», с одинаковыми чувствами относимся к крайним левым. Я вам уступаю Кузмина и Зиновьеву-Аннибал, но в вопросе о революции, о социал-демократии и пр. и я, и Булгаков, да и Струве компетентнее, больше опыта имеем и больше права судить. Ваше отношение к русской революции мне представляется доктринерским, оно основано не на живом восприятии ее духа, а на гностической схеме по поводу отношения самодержавия и православия. Дмитрий Сергеевич борется не с самодержавием, а с самим собой, с своими прежними увлечениями и ошибками, что опять-таки имеет лишь биографический интерес. Не станете Вы также отрицать, что радикальный переворот в политических взглядах Д.С. совершился отчасти под нашим же влиянием7. Об антихристианском духе самодержавия я думал и писал тогда, когда Д.С. целиком еще определял самодержавие религиозно, давно также я высказал ту мысль, что теократия анархична по отношению к государству, что власть Христа не может иметь заместителя. А теперь вы меня упрекаете в реакционерстве и выдвигаете против меня и Булгакова свой революциизм. Но вы в плохом обществе: все «декаденты» сделались теперь крайними революционерами, хотя раньше даже не задумывались над вопросами общественности. Это я называю дилетантизмом и взглядом из прекрасного далека. Булгаков верно сказал на религиозно-философском собрании: «леветь в настоящее время есть дурной тон». Меня ужасает нигилизм русской революции, разбивающий светлые мечты всей моей жизни об общественной правде, я болею этим, опытно воспринимаю этот ужас, а Вы подозреваете меня в желании примириться с самодержавием. От политики я только временно ушел и менее всего отношусь к ней с легкостью. Я не могу поклоняться факту революции, как и вообще не поклоняюсь факту, всегда оцениваю, всегда вижу не только правду, но и гниль. Всякое же расшаркивание перед революцией по «тактическим» соображениям считаю безнравственным и безбожным. Вы меня можете только упрекнуть в некотором морализме в политике, в этом грешен, я даже марксизм этизировал в былое время. В этом я схожусь с моими старыми друзьями Булгаковым и Струве. Я ведь не уступил своего «идеализма», а только возвел его на высшую религиозную ступень, включил его в нечто большее, переживание абсолютной ценности и теперь является для меня основным. Вам недостает этого «идеализма», вы не прошли через его правду, а ведь в основе этой идеалистической правды для меня лежит самый первичный опыт. И мы разно подходим к теократии, разно ее обосновываем. Я все более дорожу той своей идеей, которую развивал в статье «О народной воле»8 и которую положил в основание своей новой книги. Моя критика народной воли и народной власти и мое оправдание теократии — самое ценное и новое в религиозной мысли из всего, что я писал. В противоположность реакционным теократам начала XIX века я показываю, что декларация прав человека и гражданина только и может быть проявлением воли Бога, что человеческие права лишь бого-властием гарантируются. Вам это кажется чуждым. Я задумал большой гносеологически-метафизически-богословский труд, которому посвящу несколько лет жизни, к которому все время готовлюсь. Тема моего труда — отношение между «знанием» и «верою», что-то вроде религиозной гносеологии, философское оправдание веры, в центре будет учение о Логосе. Это будет продолжением дела Вл.Соловьева, который мне близок тем, что был мистическим рационалистом, признавал высшую разумность веры. Верю, что работая над этой проблемой, я послужу своему Богу, исполню свой жизненный долг. Я никогда не противополагал «философию» и Бога, как у Вас это было с «искусством», подобный антагонизм мне не был дан в опыте. «Бог» сталкивался в моем опыте с «общественностью», на этой почве у меня серьезная драма, но философия всегда переживалась, именно переживалась мною как нечто от Бога и во имя Бога, как самое божественное и благородное дело. Я безгранично страстно, кровно люблю философию, не как науку, а как искусство, как мудрость жизни, как созерцание Бога. В этом отношении во мне живет частица античного греческого духа. В нашу эпоху никто уже не верит в метафизику, никто ее не любит, я один только верю и люблю, знаю на опыте экстаз метафизического созерцания. В этом я окружен врагами, все против меня: позитивисты и материалисты, идеалисты и критицисты, мистики и богословы, люди старого и нового религиозного сознания, ученые и академические философы. «Общественность» и моральная с ней связь помешали мне стать настоящим метафизиком, но я все же был и есть и буду метафизиком, не в профессиональном, а в жизненном значении этого слова, по устройству клеток своего существа. И всегда будет меня соблазнять идеал высшей мудрости, божественного созерцания, теософия, гнозис. Принимайте меня с таким моим мясом и костями или отвергайте окончательно! Почему же это я вас должен принять, а не вы меня, почему это для меня плохо, если я против вас, а не для вас? Я не понимаю, почему вы смотрите на себя, как на путь спасения для меня и для других людей новой религиозной жажды? Вы можете иметь для меня огромное значение, много мне давать, но мое окончательное спасение не зависит даже от факта вашего существования или несуществования в мире. Я начинаю думать, что мы очень различно относимся к «соборности», что у нас «идейное» в этой области разногласие. Прочел я статью З.Н. о сборнике «Вопросы религии», напечатанную к сожалению в декадентских и никем не читаемых «Весах»9. Статья умная, едкая, почти со всеми мыслями я согласен, но прежде всего статья эта произвела на меня впечатление «мышления», «литературы», умственной схемы. З.Н. противопоставляет антиобщественной религии Булгакова свою общественную религию, но ведь я знаю, что Булгаков общественник до мозга костей, а З.Н. никогда никакого отношения к общественности не имела, что Булгаков любит мир и живет в мире, а З.Н. испытывает монашеское отвращение к миру. Для З.Н. общественность исчерпывается ее отношениями с Д.С. и Вами, но отношения эти не есть общественность, такой путь создания общественности я считаю роковым заблуждением, это путь к новому монастырю, я идейно отвергаю такое понимание соборности, мышлением своим не принимаю. Мои религиозные идеи таковы, что они не только дают мне право, но и обязывают меня дышать свежим воздухом мировой жизни, мое религиозное «сознание» соответствует в «жизни» моему ощущению божественного в мире, в природе, в культуре, т.е. в философии, искусстве и пр., в людях, даже в деревенской бабе. Я на опыте, в перво основах моего существа ощутил любовь к органическому, отвращение к механическому и разрушительному, в этом я близок к реакционерам начала XIX века, хотя и не реакционер, хотя и остаюсь революционером в истинном смысле этого слова. В вас я не чувствую мистики органического и это всего более меня огорчает, вы не целуете мокрых листьев на родной земле, не ощущаете мистического величия столетнего дуба. Более всего меня поражает, что Вы готовы защищать народовластие от моих нападений, что Вы поддаетесь до такой степени построениям «товарищей», что 1 готовы выступать в качестве «трудовика». Статью Вашу обо мне в «Товарище»10 я прочел с горьким чувством. Я надеялся, что хоть Вы скажете что-нибудь о моей книге по существу, но Вы написали статью так, как мог бы ее написать Водовозов"' или любой трудовик, слишком для «Товарища» и «по-товарищески». В статье Вашей я увидел такое же неуважение к исканиям, к мысли, к идеям, к работе сознания, как и у всей нашей радикальной интеллигенции, такая же утилитарная оценка, такое же требование, чтобы книга превратилась немедленно в насущный хлеб, как у любого социал-демократа. То, что есть в Вашей статье истинного, в «Товарище» пропадает и читателям непонятно. Видно только, что Вы мне предлагаете заняться делом, приносить людям существенную пользу, вместо того, чтобы взбираться на метафизические высоты, писать философские книги, решать мировые вопросы. Но все это я уже тысячу раз слыхал от всякого рода «товарищей», читал на страницах «Образования»12 и тому подобных органов. Вы тут являетесь типичным русским «интеллигентом», с больной совестью, с морализмом, с бесом утилитаризма. Мне давно уже говорили товарищи социал-демократы, что лучше бы я писал прокламации, чем философские книги, лучше бы «работал» в кружках, чем бился над решением «проклятых вопросов». Вы мне тоже , предлагаете писать «прокламации» и «работать» в кружках, но во имя другой, не социал-демократической религии. Я Вас спрашиваю, признаете ли Вы, что можно делать научные открытия в области электричества и пара, а можно строить пароходы, железные дороги и телеграфы, что это разные функции и каждая из них имеет свое назначение? Обязан ли я, сделав открытие, непременно сам же устроить телеграф? Вы договорились до того, что признали «сознание» великим врагом «действия». У Вас обращается на религиозную почву та психология, которая была у русских интеллигентов 70-х годов на революционной почве. Вы можете по этой дорожке дойти до того, что [будете] отрицать книги, знание и пр., как это и делали «интеллигенты» 70-х — Ткачев и др. Религиозное мракобесие родственно мракобесию революционному и так же ужасно. Сектанты, которые ждали скорого наступления тысячелетнего царства, так же легко впадали в мракобесие, как и социальные революционеры, ожидающие быстрого наступления своего «царства». Я верю, что всемирная история закончится тысячелетним царством Христа на земле, но мы еще не вступили в хилиастическую эпоху, к ней должен вести еще сложный и мучительный процесс истории, со всем многообразием культуры, с разделением труда в области светского мирового делания. Процесс чудесный, сверхисторический начнется по апока-липтическим пророчествам с первого воскресения, после которого наступит эпоха хилиастическая, тогда жизнь внутри теократии будет сплошным чудом, отменой злого порядка природы. До этого мы обречены жить в природном порядке, с естественным разделением всего на части, хотя религиозное возрождение мира и приведет к органическому подчинению всех частей религиозному центру. Вымогательство же чуда у Бога до исполнения времен и сроков, сегодня, для меня, представляется мне нечестивым и демоническим. У нас как будто бы обнаруживается то идейное разногласие, что для вас «история» кончилась, для меня же она на полном ходу, для вас светская культура уже не нужна, все уже сделала, для меня она очень нужна и многого еще можно от нее ждать, для вас чудеса должны начаться с сегодняшнего дня, для меня мир не подготовлен еще к этому периоду чудес. Я не верю, что рыба, которую мы будем есть, изменит свой материальный состав, как в это верит З.Н., я считаю соблазном саму потребность в такой вере. Новое откровение не от нас пойдет, не от чуда, в нашем доме совершившегося, это недопустимое самомнение, откровение невидимое органически зачинается в космосе, материалы его накопляются в мировой душе, в человечестве, которое спасется только соборным процессом истории. В статье Вы упрекаете меня за то, что я говорю о «предчувствии», этим де не удовлетворишь. Опять утилитаризм, опять отсутствие психологической оценки. Что же делать, если все мысли у меня только предчувствие, во многом я только предтеча? Что же Вы даете современному человеку, что вы советуете делать обращающемуся к Вам ученику, чем ваши писания более действенны?* Жду на это ответа. Вы говорите, что у вас не эзотеризм, а целомудрие. Но я как раз думаю, что вы очень много говорите о том, что близки к тайне и таинству, намекаете постоянно на что-то, известное только вам, но никаких реальных путей сообщения с людьми даже наиболее близкими, не устанавливаете. Вы же должны сделать так, чтобы я принял не вас, а вашу тайну, вы не единственный путь к тайне. Говоря об эзотеризме, я хотел только сказать, что никогда не следует делать намеков, так как это и есть афиширо-вание. В этом отношении вы были в Петербурге очень нецеломудренны (менее всего это относится к Вам лично), да и в литературе вот я не вижу особенного целомудрия. Вы неверно поняли, что я хотел сказать, когда говорил, что пишу как «птица поет». Этим я хотел только сказать, что непосредственно живу в своих писаниях, что у меня нет надуманности и «литературности», что потребность писать^ во мне стихийна*, что я органически верю в истину того, о чем пишу. Мне кажется, что я стихийно сообщаю о своем нахождении истины и что это всегда хорошо с точки зрения божественных целей мира. Я вероятно очень плохой «литератор», так как всего менее забочусь о литературности своих писаний, и что Вы признали «литературой» мою книгу, почти автобиографию, почти дневник, написанный соком моих нервов, это мне больно. Я писал только о том, что было фактом моей жизни. В письме моем я произнес дурные слова о страдании, сказал их из духа противоречия, но есть в них и доля истины. Меня возмущает современная рисовка страданием, самолюбование на этой почве, требование всякого ничтожества, чтоб его уважали за то только, что он страдает. Мне противна эта мания трагизма, это раздувание самого мелкого переживания до размеров трагедии, это превращение трагического страдания в наряд, в обязанность. Дорогой Дмитрий Владимирович, я много страдал в жизни, не потому, что имею склонность страдать, что создан для возвышенного страдания, а потому, что жизнь моя складывалась объективно трагично, что мне были посланы большие испытания в жизни. В моей жизни было так много трагического, что многие согнулись бы окончательно под этой тяжестью. У меня был друг, единственный почти друг, который умер в Сибири, он говорил часто, что не понимает, как можно вынести тот ужас, который я вынес, его изумляли мои душевные силы. Я почти никогда и ни с кем не говорил об этом, так как считаю доблестью выносить страдание с усмешкой, считаю стыдным для себя не только преувеличивать свое страдание, но и обнаружить его действительную тяжесть. Я всегда полагал честь свою в том, чтобы над всяким страданием возвыситься, объективно самую страшную для меня трагедию преодолевать, никогда не допускать себя до безысходности, которую всегда считал слабостью и недостатком веры в живущего во мне Бога. У меня теперь образовалось интимное отношение к Христу, Он уже стал моим, но никогда я не признаю, что божественное величие Христа в том, что Он страдал, что сущность Христа — в Голгофе. Если бы я видел в Христе лишь героизм его страдания, то я бы поставил выше Его какого-нибудь античного мудреца, циника, стоика или эпикурейца. Но Христос победил страдание, уничтожил корень его в мировой жизни, и потому Он — Бог. Этого не в силах был сделать ни один мудрец мира. Мы страдаем не потому, что страдание возвышенно, что Бог заповедал нам страдать, что это наш долг, а потому, что мир объективно трагичен, испорчен, что страдание есть факт бытия (не норма). Задача же всегда в том, чтобы преодолеть трагизм, освободиться от страдания, мужественно его перенести. Религиозного садизма я терпеть не могу, не верю в жестокого Бога и вижу религиозную жизнь только в благодати. Я не о Нувелевской радости жизни говорю, это Вы должны понимать. Мещанское довольство и прекраснодушие: мне глубоко чуждо и ненавистно и в моей жизни нет мещанских радостей, но если во мне есть ростки религиозной жизни, то они благодатны, дают мне мужественную силу преодолевать страдание, объективно мне данное, а не выдуманное мною, побеждать трагизм жизни. Я верю, верю, верю в радостный смысл жизни, в окончательную победу над всяким злом. Булгаков знает, что я верю в Христа, на почве этой веры у нас даже есть некоторый минимум религиозного общения. А главное: не считайте себя спасителями, не спасайте так рьяно, это ведь дух Инквизитора. Простите за утомительно огромное письмо, им я хотел все высказать. Жду с нетерпением от Вас ответа.
Любящий Вас Ник. Бердяев
Р.8. Я прочел Ваше письмо Лидии Юдифовне, она увидела в письме ту правду, которую она постоянно мне говорит и я ей говорю, но лишь отчасти.
[Р.]Р.8. Многое из того, что я написал, относится не к Вам лично, а к вам, как целому.
|




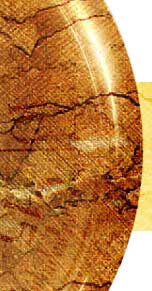
 https://vk.com/club155176255
https://vk.com/club155176255 
