А.А.Соболевская
Дмитрий Философов: от декадента к интервенту
Декадентская закваска.
Известная деятельница на ниве женского образования в России Анна Павловна Философова рассказывала в своих заметках:«Русское декадентство родилось у нас в Богдановском, потому что главными заправилами были мой сын Дмитрий Владимирович и мой племянник С. П. Дягилев. «Мир Искусства» зачался у нас. Для меня, женщины 60-х годов, все это было так дико, что я с трудом сдерживала мое негодование. Они надо мной смеялись. Все поймут, какие я тяжкие минуты я переживала при рождении декадентства у меня в доме! Как всякое новое движение оно было полно тогда экстравагантностей и эксцессов. Тем не менее, когда прошла острота отношений, я заинтересовалась их мировоззрением, и должна сказать откровенно, что многое меня захватило. Ложная атмосфера очистилась, многое сдано в архив, а осталась несомненною одна великая идея, которая искала и рождала красоту. Если бы Сережа ничего другого не создал, как «Мир Искусства», и тогда за ним осталась бы навеки «историческая заслуга»[1]. Однако для спасения русского мира одной красоты, тем более декадентской, явно было недостаточно. Ущербность исканий декадентов, которых Чехов для их отрезвления предлагал отправить в арестантские роты, понял и Вл. Соловьев, вначале как будто сочувствовавший исканиям журнала и даже напечатавший в «Мире Искусства» несколько статей. Но по поводу юбилейного номера, посвященного празднованию столетия со дня рождения Пушкина, произошла ссора. Вл. Соловьев раскритиковал в «Вестнике Европы» статьи В. В. Розанова, Д. С. Мережковскаго и Н. Н. Минского.[2] За Мережковского, как его последователь и единомышленник, вступился Д.Философов[3]. Соловьев в своей новой статье «Против исполнительного листа»[4] обрушился на мирискусников. Тогда сердце матери дрогнуло, и она написала ему письмо, которое, кажется, осталось неотправленным. «Дорогой, искренно любимый и уважаемый Владимир Сергеевич, не мне, конечно, вступать с вами в пререкания по поводу Вашей статьи против моего сына. Скажу даже откровенно: я ей сочувствую! Вы, конечно, догадываетесь, какая возникла рознь в настоящую минуту между родителями и детьми! Все это, впрочем, естественно и скажу более, оно даже должно быть, иначе был бы застой. Переживать эту рознь очень мучительно. Никакие современные Софоклы и Эсхилы (Ницше, «Происхождение трагедии»), не в состоянии себе представить и описать ту внутреннюю семейную драму и борьбу, которая теперь съедает нас! — Надо поэтому добросовестно и по возможности беспристрастно разобраться в этой трагедии. Я думаю Вам отчасти будет небезынтересно узнать закулисную сторону дела. Моя молодежь еще не установилась, она ищет, как и все мы, правду и истину. Это люди не спекуляции и карьеры, это люди— духа. И вот, где наша точка соприкосновения. Я их уважаю. Все симпатии их клонятся к Ницше и ницшеанству. Вас они чтут, как учителя, и вот они обращаются к Вам и говорят: «дорогой учитель, где истина?». Вот в каком духе и с какой целью они к Вам обратились и ждали Вашего ответа. Вы же приняли их возглас за «исполнительный лист». Не слишком ли жестоко с Вашей стороны такое предположение? Простите меня, что осмеливаюсь это Вам писать, но это крик материнского сердца, которое яснее видит всю правду. Верьте, что мы все любим Вас и уважаем, да и нельзя Вас не любить, но тем больнее удары Вашего бича, поймите это. Искренно преданная и глубокоуважающая Вас А. Философова. (3-го октября 1899 г.).[5]
Духовный террор.
По прошествии неполного десятка лет «люди духа» превратились в адвокатов террористов из партии социалистов-революционеров. И во многом такое стало возможным в результате увлечения идеями Ницше, которого Соловьев в своем последнем философском произведении «Оправдание добра» называет «антихристом». Отдавая дань либерализму своего времени, Философов шагнул левее матери, остановившейся на кадетах, – к эсерам, хотя, вроде бы, не был членом партии, имевшей в своем составе боевую террористическую организацию. Сблизившись с ними, он вместе со своими единомышленниками Мережковскими пришел к мысли, что убивать можно, но убивать может революционный народ, убивать – царя, и жертва будет оправдана. Письмо Философовой очень точно определяет роль Соловьева в исканиях русской интеллигенции того времени. Соловьев также метко определил манеру критики в стиле «исполнительного листа» со стороны мережковцев. В своей статье «Революция и религия» Мережковкий писал: «Вл.Соловьев, когда в академическом Вестнике Европы смеялся над участникам первого в России декадентского журнала Мир Искусства, как над глупыми и дерзкими школьниками, - не подозревал, какая мудрость в том безумии, какая сила в этой немощи: в немощи сила Моя совершается ( обращает на себя слова Христа Мережковский – А.С.). С русскими декадентами повторилось то же, что с декабристами: от разумных и премудрых утаенное открылось младенцам. Ежели теперь вся Россия – сухой лес, готовый к пожару, то русские декаденты – самые сухие и самые верхние ветки этого леса: когда ударит молния, они вспыхнут первые, а от них - весь лес»[6]. Сам Соловьев обвиняется в недостаточной революционности по отношению к православию и самодержавию. Он-де «слишком любил вступать в сделки, в компромиссы, не только временные, но и вечные», а ответы, которые он дает, почти все «ложные и недостаточные», хотя «самые вопросы ставит он с такой пророческой силой, с какой еще никогда и никем не ставились в христианской метафизике»[7]. Три вопроса, считает Мережковский, сформулировал Соловьев – «о личности, тайне одного, о поле, тайне двух, и обществе, тайне трех, человеческой множественности - могут быть разрешены на новом откровении Божественного Триединства». Похоже, что эти трое - Мережковский, Гиппиус и Философов – считали, что такое откровение им явилось, и написали книжку «Царь и революция», которая была издана на французском языке в 1907 г. в Париже («Le Tzar et la Revolution»), через год вышла на немецком в Германии (Der Zar und die Revolution), а целиком на русском только в 1999 г. в Москве, хотя статья Мережковского «Религия и революция» на русском издавалась в 1907 и 1908 гг. «Тройственный союз» Мережковский - Гиппиус - Философов возник в России, а в начале первой революции переместился в Европу, где оказались к тому времени многие деятели антиправительственного лагеря. Сборник, изданный на двух европейских языках был обращен в первую очередь не к русскоязычной аудитории, а непосредственно к европейскому читателю, русской культурной элите и эмиграции - «к отдельным личностям высшей всемирной культуры», как заявлено в предисловии. В нем была предпринята попытка религиозного оправдания русской революции на основе яростного противостояния монархии и «церковной ортодоксии». Подобное издание мыслилось не только как политическая акция, но и как «плацдарм» для консолидации христианской интеллигенции либерального толка для совместного выступления против — «самодержавного хамства», «православной казенщины» и «хамства, идущего снизу — хулиганства, босячества, черной сотни» (триединое определение «реакции», данное автором «Грядущего Хама» в 1905 г.. Мережковским). Им было важно продемонстрировать новое понимание христианства, засвидетельствовать, что «новое религиозное сознание» — объективная реальность: внутри русского общества существуют «творческие силы, готовые к церковному и политическому обновлению». Начиная с 1901 г. предпринимались неудачные попытки создать единый фронт «религиозной общественности», способной организованно и действенно противостоять «исторической церкви» и самодержавию под руководством «тройственного союза». Оказавшись накануне отъезда в Париж на грани изоляции в движении за «церковную реформацию», которое его участники называли «религиозном освободительном движением», хотя по существу оно вело к расколу, «союз» пытался объединить его на базе выпуска сборника с широким кругом участников. В конце концов сборник вышел лишь с тремя авторами. Дальнейшего развития этот издательский проект не получил, как не осуществилась мечта объединить участников церковной реформы под руководством «духовных революционеров» Д.Мережковского, З.Гиппиус и Д.Философова. «Книга посвящена религиозному оправданию русской революции и имеет ярко выраженный антимонархический и антиортодоксальный пафос»[8] - пишет во вводной статье «Мученики великого религиозного процесса» современного издания «Царь и революция» Маргарита Павлова. Она считает, что «миссионерский» провал «тройственного союза» не отменяет его «подлинную культурную ценность». Однако, подобное «окультуривание», встраивание в существующую традицию вовсе не традиционалистского поведения и взглядов характерно для публикаций еще дореволюционного, революционного, советского и постсоветского периода. В «Окаянных днях» И.А.Бунин бурно протестовал против этого[9], заметив, что окультуривание и олитературивание происходящего писателями играет на руку революционерам и террористам, приучая к ужасу и шоку красного террора. То же самое можно сказать о нашем времени с его окультуриванием чеченского террора. На наш взгляд книга «Царь и революция», как и вся деятельность «тройственного союза», не укладывается в рамки отечественной культуры, что, впрочем, характерно для декадентства вообще. Без всякого сомнения, выступление мережковцев явилось звеном в цепи революционного ниспровержения самодержавия и попытки, частично удавшейся, разрушения православной церкви. В культуре, в ее ценностном ядре, должны сохраняться как ее неотъемлемая часть фундаментальные традиции, их разрушение ведет к разрушению и культуры и социума. Все «религиозное мученичество» и троицы и всех декадентов вело именно к разрушению того и другого. В основу «Царя и революции» положена совместно разработанная система идеологем,[10] представленная в предисловии: «Самодержавие и православие — две половины единого религиозного целого, также как папство и католичество. Царь не только царь, глава государства, но и глава церкви, первосвященник, помазанник Божий, то есть в последнем, ежели исторически не осуществленном, но мистически необходимом пределе власти своей — „Наместник Христа", тот же папа и кесарь вместе. Самодержавие есть утверждение <…> АБСОЛЮТНОЙ святыни; но <…> отрицание одного абсолюта не может не быть утверждением другого, противоположного. Самодержавие — религия, и революция — тоже религия. Всего менее сознают это сами революционеры. В сознании своем они — безбожники. Имя Божье ненавистно им потому, что связано с православием и самодержавием, то есть с наибольшим кощунством над их собственной подлинной, хотя и безымянной святынею. Для них религия значит реакция. И они правы, если не положительной, то религиозной правдой. ( Выделено мной – А.С.)»[11]. То, что революция имеет религиозную подоплеку заметил еще в середине XIX века Ф.И.Тютчев в своих пророческих статьях «Россия и Запад», «России и Германия», выделив западный принцип человеческого самовластия как главную составляющую революционного сознания[12]. Его-то фактически и проповедовали Мережковский-Гиппиус-Философов. Ф.И.Тютчев дал формулу революции: «Революция, если рассматривать ее с точки зрения самого существенного, самого элементарного принципа, - чистейший продукт, последнее слово, высшее выражение того, что вот уже три века принято называть цивилизацией Запада. Это современная мысль, во всей своей цельности, со времен разрыва ее с Церковью. Мысль эта такова: человек, в конечном счете, зависит от самого себя как в управлении своим разумом, так и в управлении своей волей. Всякая власть исходит от человека; все, провозглашающее себя выше человека, либо иллюзия, либо обман. Словом, это полный апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле слова» (выделено мной – А.С.)[13]. Вот эта мысль и объединяет авторов сборника. Написанные каждым в отдельности, все вместе статьи составляют единое целое, не противореча, а дополняя одна другую. Единомыслие было полным, во многом еще и из-за того, что главный генератор идей Мережковский был главой своего рода революционной секты[14]. Д.Философов написал первую статью сборника «Царь-папа». В ней излагалась идея о том, что царь присвоил себе право первосвященства наподобие папы римского, но что теперь и в Европе и в России «нации сбрасывают ярмо извращенной теократии, здесь и там тяга к светскому и гуманному государству толкает народ к освобождению от любой автократии, исходит ли она от Папы или Царя»[15]. Правда, в России «слово» освобождения принадлежит «браунингам и бомбам, кровь льется с расточительностью, превосходящей, кажется, все иные революции», но важно, что дело освобождения от «ярма извращенной теократии» движется - это лейтмотив «Царя и Революции». Те же идеи разрабатываются в статье самого Мережковского «Религия и революция». Измышления относительно церкви и самодержавия подвергались критике со стороны русской православной церкви. Много было сказано в период подготовки церковного собора по восстановлению патриаршества. Русская православная церковь всегда придерживалась идеи «симфонии властей» - царской и духовной -, которую она восприняла от Византии. В православном Византийском царстве уже при Императоре Константине материальная сила государства и духовная сила Церкви впервые объединились на принципе «симфонии» этих двух властей. В преамбуле к Шестой новелле Императора Юстиниана (первая половина VI века) принципу симфонии властей дана следующая формула: «Величайшие дары Божие человеку, данные Вышним человеколюбием - священство и царство: одно служит вещам Божественным, другое управляет и заботится о вещах человеческих; и то, и другое происходит от одного и того же начала и благоукрашает человеческую жизнь... Если то (священство) будет во всем безупречно и причастно дерзновения к Богу, а это (царство) будет правильно упорядочивать врученное ему общество, то будет благая некая симфония...»[16]. И этого принципа твердо держались практически все византийские, а затем русские цари и императоры. Позже придуманная теория царя – великого первосвященника, противоречащая принципу симфонии властей, была осуждена преп. Симеоном Солунским. Он назвал ее «выдумкой льстецов», желавших лишь оправдать незаконные и антиканонические вторжения светской власти в церковную сферу (цезаропапизм). В России этот «великий вред» нанес симфонии властей, просуществовавшей на продолжении почти восьми веков, Петр I. «Даже претерпев реформу Петра I, даже отчужденная от народа в XVIII веке, русская монархия оказалась достаточно укрепленной своей многовековой связью, чтобы надолго оградить Русь от воинствующего протестантизма и материализма, поглотивших Европу. Возрождение православной монархии – залог благосостояния Русской империи»[17],- писал всего двадцать лет назад русский американец, профессор богословия Н.Воейков. А категорическим императивом мережковцев как раз была борьба и с православной Церковью, и с Русской империей. И в этой борьбе в союзе с другими разрушительными силами они, на свою беду и на нашу тоже, преуспели. Но в их борьбе с православием вышла осечка. Ведь по существу они боролись не с «историческим православием», а с Христом, а Бог поругаем не бывает. Агрессивное, почти «террористское» отношение к православной церкви, диктат в трактовке нового религиозного сознания («самолюбивая жажда по своей воле все и всех формировать», по словам Бердяева [18]), претензия на роль предтечи религиозной революции и реформаторский максимализм Мережковских послужили основанием для критики или несогласия с ними тех, кого в самом общем стратегическом плане они осознавали первоначально «своими». Тогда-то они и стали искать новых союзников. Ближайшей задачей стало формирование подлинной «религиозной общественности», которая соединила бы революцию с религией. Первым шагом на этом пути могло бы стать обращение революционера-атеиста в революционера-христианина. Однако этого не произошло. Вместо этого революционер-атеист превратился в террориста, от духовного террора вполне логично перешли к кровавому.
Адвокаты террора.
В парижской эмиграции начала XX в. тройка Мережковские -Философов активно общается с русской колонией политических эмигрантов, сближается с представителями революционных партий, в том числе с эсерами — И.И. Бунаковым (Фондаминским) и Б.В. Савинковым. Весьма примечательны их политические биографии. Оба – масоны, члены нескольких лож, в том числе одной общей – «Добрый самаритянин», оба – эсеры, руководители и члены Боевой организации этой партии. Илья Исидорович Фондаминский ( псевдоним - Бунаков, 1880-1942 гг.) – из семьи московских еврейских купцов 1-й гильдии, стало быть – весьма состоятельный; обучался в гимназии Креймана в Москве. Из-за процентной нормы не смог поступить в Лазаревский институт и в 1900-02 гг. изучал философию в Берлине и Гейдельберге. Здесь он входил в кружок молодых социалистов-революционеров наряду с известным деятелем студенческого движения, а впоследствии крупным масоном Н.Д.Авкесентьевым. Оба были арестованы в 1902 г. в разные месяцы за транспортировку нелегальной литературы. Оба участвовали в организации партии эсеров в 1905 г. Фондаминский стал членом ее Боевой организации, членом ЦК. В 1905 г. неудачно пытался организовать восстание на флоте, был арестован, но как штатское лицо избежал военного суда. После подавления вооруженного восстания в Москве уехал в Финляндию, затем в Париж, где сблизился с Мережковскими и подружился с Савинковым.[19] Любопытная деталь: деньги на издание «Царь и революция» от Фондаминского «появились» в квартире Философова еще до отъезда во Францию вместе с «милым их посланцем». Борис Викторович Савинков - литературный псевдоним В.Ропшин - (1879—1925) – из потомственных дворян. Отец, судья в Варшаве, за либеральные взгляды был уволен в отставку, старший брат сослан в Сибирь. Савинков окончил в 1897 г. 1-ю Варшавскую гимназию и поступил на юридический факультет С.-Петербургского университета. В декабре 1897 г. в Варшаве был впервые арестован за распространение прокламаций среди студентов, а в 1899 г. – исключен из университета за участие в студенческих беспорядках и выехал за границу, где два года учился в университетах Берлина и Гейдельберга. В январе 1901г. Савинкова снова арестовали за основание в Петербурге группы «Социалист», близкой к Плеханову и выслали в Вологду. Но в июне 1903 г. он бежал через Архангельск в Норвегию, затем переехал в Женеву. Здесь он познакомился с одним из основателей Партии социалистов-революционеров М.Р.Гоцем, который вместе с Авксентьевым и Фондаминским участвовал в кружке «молодых эсеров» в Галле-Гейдельберге. Савинков вступил в партию эсеров и вошел в ее Боевую организацию. В таком решении сыграли роль и его личные качества. Савинков – человек «несомненно находчивый и смелый, самовлюбленный и жаждавший авантюры»[20], - писал хорошо знавший его по вологодской ссылке А.В.Луначарский. После участия в организации ряда террористических актов - убийстве министра внутренних дел В.К.Плеве в 1904 г., московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, покушениях на Николая II и генерала Дубасова и др.- Савинков стал заместителем руководителя Боевой организации Е.Ф.Азефа, а после его разоблачения как провокатора – руководителем. В 1906 г. в Севастополе он был арестован, приговорен к смертной казни, бежал в Румынию, а позже перебрался в Париж. [21] Под непосредственным впечатлением от разговоров и споров с Савинковым о терроре Зинаида Гиппиус написала статью «Революция и насилие» для сборника «Царь и революция». Позже она вспоминала: «Главная тяжесть в том, что Савинков сам как будто чувствовал себя убиваемым — убивая. Говорил, что кровь убитого давит его своей тяжестью. (...) Уклониться от вопроса о насилии мы не могли, — ведь мы же были за революцию? против самодержавия? легко сказать насилию абсолютное „нет". В идеях Дмитрия Сергеевича не могло не быть такого отрицания. (...) И наши тяжелые разговоры с Савинковым ничем не кончались»[22]. Но в конечном счете герой-террорист был романтизирован массовой литературой, в том числе и собеседниками Савинкова, Максимом Горьким, Леонидом Андреевым и другими, «канонизирован» большей частью интеллигентского общества. В творчестве Мережковских и Философова 1906-1908 гг. проблема насилия становится едва ли не краеугольной и наиболее мучительной: оправдать революцию с религиозной точки зрения без оправдания революционного террора было невозможно. В лекции «О насилии», прочтенной Мережковским в Париже, в статьях Гиппиус «Революция и насилие» и «Тоска по смерти» (1906), в рецензии Философова на «Рассказ о семи повешенных» Л. Андреева (1908), в статье Мережковского «Бес или Бог?» (1908) и др., в их коллективной драме «Маков цвет» (1908), в романе Б. Савинкова «Конь бледный» (1908), который создавался при ближайшем участии 3. Гиппиус, ставится вопрос о пролитии крови «во имя» и «святости» революционной жертвы. В статье «Бес или Бог?», напечатанной в «Образовании» летом 1908 г. (сразу же после возвращения из Франции) в защиту «безбожной» интеллигенции и минувшей революции от многочисленных обвинений в «бесовщине», Мережковский выступил с категорическим оправданием революции, отстаивая ее религиозный смысл и святость борьбы с Антихристом (самодержавием). Статья была написана в виде отклика на только что изданную брошюру «Памяти Фрумкиной и Бердягина» (М., 1908). Эта террористическая парочка вообще была характерна для тех революционных лет. В 1903 году двадцатидевятилетняя минская мещанка, повивальная бабка Фрума Мордуховна Фрумкина, отточенным ножом нанесшая удар в шею начальнику киевского жандармского управления генералу Новицкому, была присуждена к одиннадцати годам каторжных работ. Срок был сокращен, и заключенную перевели на поселение в Читу, откуда она бежала в 1907 г. В том же году она была задержана в Москве, в Большом театре, у ложи московского градоначальника Рейнбота с браунингом, заряженным отравленными пулями, и заключена в Бутырскую тюрьму, где покушалась на жизнь тюремного начальника Багрецова — выстрелом из револьвера ранила его в руку. 11 июля 1907 года злодейка была повешена. Суд сделал все, что от него зависело, чтоб избавить ее от смертного приговора, объявив душевнобольной, но она сама этого не захотела и вынудила судей подписать приговор. Неизвестный, назвавшийся Максимом Бердягиным, был арестован в 1905 г. в Москве, при аресте у него были найдены бомба и браунинг; его приговорили к восьми годам каторги. 5 июля 1907 года он ранил отравленным кинжалом помощника начальника Бутырской тюрьмы, и был приговорен к повешению, но накануне исполнения приговора покончил с собой. В упомянутой брошюре были приведены факты биографии казненных революционеров-террористов Фрумкиной и Бердягина, материалы следствия, обвинительные акты, речи обвиняемых на суде, а также записи о жизни революционерки, сделанные с ее слов за пять дней до смерти, ее письма к товарищам, стихотворения Бердягина, в том числе и его стихи на смерть Фрумкиной. В особом разделе была помещена также написанная Фрумкиной в тюрьме работа «Самодержавие и террор», в которой она, в частности, заключала: «Массовый и единичный террор — неизбежные спутники народной войны при тех условиях, при каких она ведется в России. Выступления террористов можно назвать личными только потому, что их выполняет один человек, но его рука выполняет волю всего народа, она выполняет приговор всего народного суда и потому двигается вперед борьбой масс» [23]. Интересно, волю какого народа выполняла Фрумкина? Только не русского, исповедовавшего православие, видящего в убийстве и самоубийстве страшный грех. Надо было сначала его распропагандировать, заставить верить в насилие, а не Христа, чтобы он поверил, что революция ему нужна. Такими пропагандистами и выступили мережковцы. В статье «Бес или Бог?» Мережковский широко привлекает материалы биографий казненных эсеров. В его переложении террористы Фрумкина и Бердягин предстают святыми мучениками-проповедниками, подобно первохристианам. Они покушаются, но не убивают («жалят безвредно, как пчелы, чтобы, ужалив, самим умереть»), идут на казнь только для того, чтобы сказать миру о зле и несправедливости общественного устроения — об Антихристе («Физическое насилие только предлог для какого-то метафизического утверждения. Делают не для того, чтобы сделать, а чтобы сказать, возвестить, проповедовать что-то»); они прощают врагам своим («Я не чувствовала в них врагов, я читала в их лицах уважение к русскому революционеру», — писала Фрумкина о судьях); они исповедуют идеал любви и свободы («Свободная и счастливая личность в свободном и счастливом человечестве, — вот мой идеал», «Настанет время, когда любовь и разум проникнут в жизнь человека, и мир представит единую братскую семью... Этот мир омывается не Тигром и Ефратом, а истиною и справедливостью», — писал Бердягин). Утверждение личности как начала абсолютного, самоценного, самодовлеющего, Божеского — такова религия обоих, по мнению Мережковского. «Они приняли муки и смерть, чтобы возвестить эту «благую весть», исповедовать новую религию — новую, потому что в такой мере, в таком пределе этого еще ни в одной из религий не было» [24], — заключает писатель- либерал, приветствуя зачинателей террора в России. Статья «Бес или Бог?» продолжила центральную тему парижского сборника и по-своему завершила ее. Защищая русскую революцию и русскую интеллигенцию от обвинений в «бесовщине», Мережковский в то же время отстаивал правомерность своей концепции формирования «религиозной общественности» и свои эсхатологические прозрения, защищал себя и своих сподвижников, авторов «Царь и революция», от обвинений в «бесовстве», в «революционном максимализме», в «проповеди кровавого бреда и хаоса», скрыто прозвучавших в рецензии Н.Бердяева «Мережковский о революции» и прямо высказанных им в письмах к Д.Философову. «Необходимо излечить русскую интеллигенцию от кровавого бреда, а не подогревать его религиозно, — писал ему Бердяев в марте 1908 года. — Вы же пользуетесь апокалиптическими пророчествами для подогревания кровавого бреда. Вам все мерещатся ужасы, катастрофы, фейерверки, жертвы, потоки крови и т. п. От этой чертовщины нужно религиозно отрезвиться и отрезвить других»[25]. Мережковцы не внимали голосу бывших протрезвевших единомышленников. В последующие три года они еще более сблизились с эсерами-боевиками. Весной 1909 г., когда Савинков возглавил Боевую Организацию партии эсеров, а Фондаминский стал ее представителем и координатором в Заграничной Делегации ЦК ПСР, Мережковских вызвали в Париж. От них ждали одобрения и «чуть не благословения» попытки возрождения и реабилитации террора, скомпрометированного предательством Азефа. Тогда-то Мережковскими заинтересовалось Московское Охранное Отделение, и их фамилии и приметы вошли в «Список лиц террористической группы Бориса Савинкова и имеющих с ним связь»[26]. Вместе с Б. Савинковым и И.Фондаминским вынашивалась программа «ордена», который соединил бы террористический опыт революционеров с «философией духовного максимализма», другими словами, мыслилось соединить духовный и физический террор. Гиппиус в своих письмах к Савинкову в 1911 г. писала о том, что еще не было «сознательной религиозно-революционной организации, и, пожалуй, не мыслилась "христианская революция” или "революционное христовство”[27], то есть хлыстовство. Тройка придала такое - хлыстовское - сознание революции.
Хлыстовская революция.
Согласно Мережковскому, всего «один волосок» отделяет религиозные искания вождей интеллигенции от религиозного движения в русском народе. Пророку «Третьего Завета», то есть «Завета Святого Духа», который должен вселиться в «соборное тело религиозной общественности», нужны были союзники в «народе». Их он видел в раскольниках и сектантах, в том числе хлыстах. «Русские диссиденты, церковные раскольники, «люди древнего благочестия» - первые русские мятежники, революционеры, хотя эта революция во имя реакции. <…>Раскольники, хотя и неверно мистически, но верно исторически почувствовали религиозную невозможность православного самодержавия. <…> Раскол, соединившийся с казацкою вольницей, пугачевщиной, есть революция снизу <…>. И по мере того, как высилось здание, расширялась и трещина, углублялся раскол. С поверхности исторической перешел он в глубину мистическую, где возникло сектантство, которое в крайних сектах – штунде, молоканстве, духоборчестве – шло до почти сознательного религиозного отрицания не только русского самодержавия, но и всякого вообще государства <…>. Русское сектантство постоянно растет, развивается, и пока еще нельзя предвидеть, во что оно выльется. Но и теперь уже в некоторых мистических углублениях его — в проблеме пола, как она поставлена в хлыстовстве и скопчестве, в проблеме общественности, как она поставлена в штунде и духоборчестве, — проявляется такая сила <…>, какой мир не видел с первых веков христианства <…>. Сила всего великого Русского раскола-сектантства, этой религиозной революции, <…> должна соединиться с ныне совершающейся в России революцией социально-политической» (выделено мной – А.С.)[28] – вещал Мережковский. Любопытно, что в этих поисках революционных союзников среди хлыстов и других сектантов Мережковский был не одинок. Вместе с ним, можно сказать, бок о бок трудился другой сектовед, большевик, будущий управляющий делами Совнаркома В.Д.Бонч-Бруевич. В той ее части, которая касается раскола, эта революционная формула кажется продолжающей традицию народнической историографии А.П.Щапова. Но Мережковский идет дальше создания мифа об особой революционности раскольников Щапова, придавая и «расколу», и «революции» новый смысл. Щапов понимал прогресс в духе позитивизма XIX века, как борьбу за власть и социальную справедливость, в этом понимании не было ни мистики, ни тем более эротики. Давая ответы на поставленные Соловьевым вопросы, которые, правда, формулировал сам Мережковский, он определял революцию не как политический процесс, а как демиургию, тотальное преображение мира. Первыми и даже главными признаками такого преображения станут, или уже становятся, изменения человеческого тела и сексуального порядка. По мнению Мережковского, примеры таких «изменений существуют в сектах. Поэтому ему легко включить в свое понимание раскола как революции — или революции как раскола — и хлыстов, и скопцов. Поиски подобных «изменений» вовсю шли в рядах «религиозной общественности». Так намечался путь этих идей к сексуальной революции XX века, которую все чаще называют гомосексуальной, к постмодерну. Свои идеи Мережковский развивал на религиозно-философских собраниях, проходивших в Петербурге в 1901-1903 гг.[29] Рассказывая о них и их неудаче, Мережковский называет главную «метафизическую» причину того, что стало непреодолимой чертой между церковниками и «религиозной общественностью»: «Они <…> уступали нам во всем; готовы были на всякие примирительные сделки с «миром, лежащем во зле»; готовы были простить всю нашу грешную плоть и не могли понять , что нам нужно, чтобы церковь согласилась не простить нашу грешную, а благословить святую»[30]. И это требование возникало из уже отмеченного революционного принципа самовластия человеческого «я» со своей, разумеется, «святой плотью». Что же такое эта «святая плоть» и какими таинственными путями, по мнению Мережковского и Ко, она преображается из грешной? Многое можно узнать из личных документов этой семьи, которая видела себя ядром «религиозной общественности» близкого будущего. Преображение пола представлялось натуральным, демиургическим процессом. Когда произойдет тотальная трансформация тела, которое станет бессмертным и бесполым, тогда для секса места просто не останется. В этой сексуальной демиургии «революционеры духа» тоже были не одиноки. Они были единомышленниками не только своего учителя, софианца Вл.Соловьева, но и Н.Федорова с его проектом воскрешения мертвых эротической силой детей[31]. Но пока чуда нет, секс надо преодолевать иным способом. Обсуждая проблему, Гиппиус, Мережковский, Философов пришли, видимо, к согласию. «Помнишь наши разговоры втроем, каким образом будет проявляться в грядущем любовь двух в смысле пола, и может ли остаться акт при (конечно) (выделено мной –А.С) упразднении деторождения? Помнишь твои слова, подтвержденные Дмитрием, что, если акта не будет, то он должен замениться каким-то другим, равным по силе ощущения соединения и плотскости, другим общим, единым (вот это заметь) актом?» [32],- писала Гиппиус человеку, с которым была связана мучительно сложными, но несомненно индивидуальными, отнюдь не «общими» отношениями. В майское утро 1905 г. она в Ялте писала письмо Философову, в котором, как ей казалось, нашла ответ на вопрос, что станут делать двое влюбленных из числа «религиозной общественности» со своей «святой плотью»: «Акт ли (без деторождения) или что-нибудь другое, мгновенно приходящее, — это все равно, это навеки тайна двух, каждых двух». По этому поводу психоаналитик А.Эткинд замечает: «Как всегда культурная традиция переплетается с личной биографией и сиюминутным интересом: адресат этого письма был гомосексуалистом, и влюбленной в него женщине надо было придумывать небывалые способы любви»[33]. Этим поиском «небывалых способов любви» были заняты одновременно с Гиппиус сам Философов, Блок, Белый, С.М.Соловьев, племянник философа, Бердяев, Горький и многие другие литературные «демиурги». Гиппиус была вполне уверена в том, что после «преображения» не будет ни смерти, ни деторождения; но физическая жизнь будет продолжаться, хотя и в преображенном виде. В новом мире, который она называла теократией, изменится все — жизнь и тело, психология и физиология. «Что там себя обманывать. Слишком глубоко мы знаем, что ни со старой психологией, ни со старой физиологией, как со старой жизнью, не войдешь в новое. Мы естественно, когда влечемся к новому, ломаем и жизнь, и психологию, и это ведь, путь не по розам; не по розам и ломанье физиологии, такое же неизбежное. Я нисколько не уверена, что создам новое для себя. Я даже думаю, что погибну. Но держаться за старое — из-за чего? <…> Нам с тобой особенно надо, если так, отказаться от старого нашего пола», — писала она на вершине своей любви к Философову. Даже не пытаясь найти приемлемый — при существующем порядке душ и тел — порядок отношений, Гиппиус относилась к этой идее с пафосом подлинно революционным: «Нам лучше<…> в ужасе погибнуть под развалинами дома, который мы ломаем, нежели в нем по-хорошему устроиться»[34]. Бывали у нее и мучительные минуты разочарования в собственном проекте, предписанном ею для себя, для ее странного мужа и не менее странного любовника. Тогда она писала, что «до конца жизни останется не до конца преображенное тело», и даже что «всякое старо-человеческое ближе нашего, плотнее, реальнее». Вообще, по ходу переписки с Философовым ее чувство очищается от неземных претензий, она хотя и с сопротивлением, но осознает жизненную, плотскую и вполне обычную его природу. Ее поиски воплощали идеи и идеалы многих либеральных и декадентских современников, потому и стали популярны. За мечтой о преображении пола стоит поиск телесных основ для новой социальности, «религиозной общественности». Решение виделось на пути размыкания «тайны двух» до «тайны трех» или, если перейти с жаргона Мережковских на жаргон позднейшего времени, в попытке коллективизации секса. Акт будущего мыслился как соединение не двух, а многих. «Если акта не будет, то он должен замениться <…> другим, общим, единым (вот это заметь) актом», — писала Гиппиус Философову. «Не человеческая уж общность, но человеческое возвышающая до божественного Общнос<
Источник: Философовские чтения: Сборник материалов третьих Философовских чтений.- Псков, 2008. С136-148 |




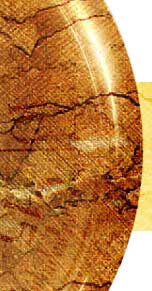
 https://vk.com/club155176255
https://vk.com/club155176255 
